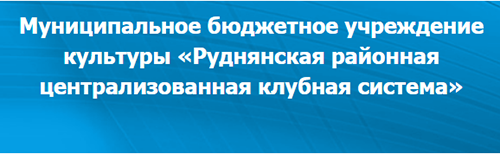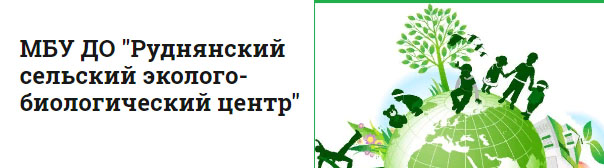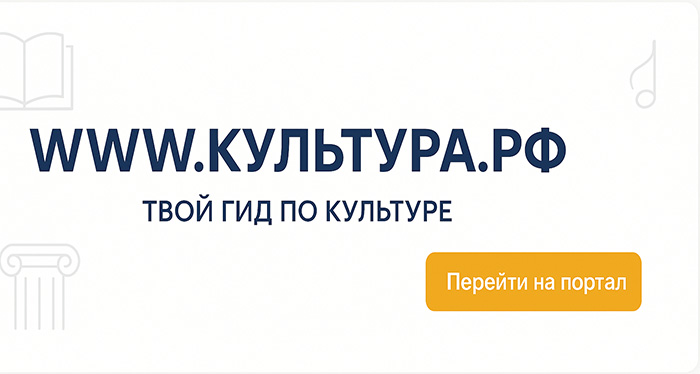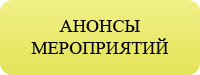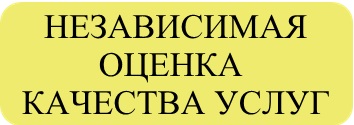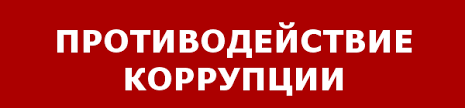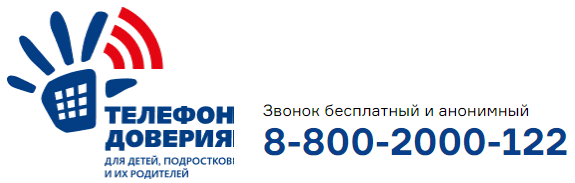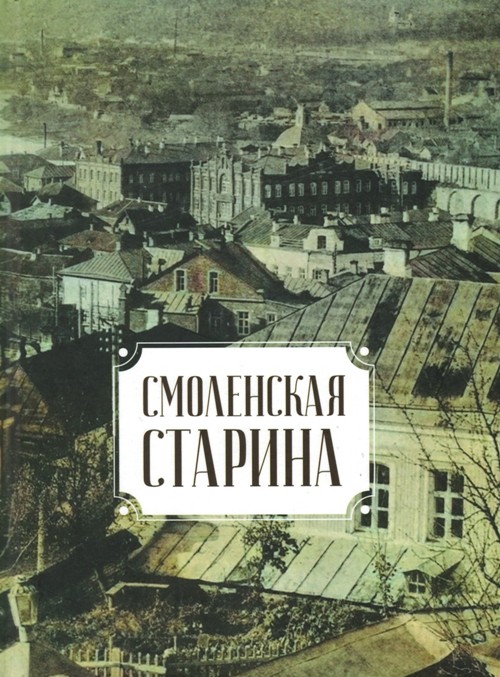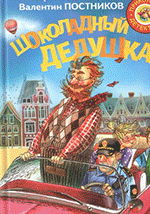Настройки:
Интервал между буквами (Кернинг):
Руднянское муниципальное бюджетное учреждение Централизованная библиотечная система
Версия для слабовидящих
8 (48141) 4-21-09
- Главная
- Изящной лирики перо
- Творчество современниковцев
- Фомченков Владимир Ефимович
Фомченков Владимир Ефимович
 Родился 15 сентября 1936 года, вырос и жил в д. Шеровичи Руднянского района Смоленской области. После школы-семилетки работал шофером, электромехаником, газослесарем. Затем служба в Советской Армии и вновь – родные края.
Родился 15 сентября 1936 года, вырос и жил в д. Шеровичи Руднянского района Смоленской области. После школы-семилетки работал шофером, электромехаником, газослесарем. Затем служба в Советской Армии и вновь – родные края.Окончил среднюю школу рабочей молодежи, потом заочно культурно-просветительное училище. Многие годы работал директором в Дома культуры в колхозе «Советская Россия» д. Шеровичи. Во время уборочной страды закрывал свой «очаг культуры» и садился за руль комбайна.
 Всю жизнь свое свободное время Владимир Ефимович посвящал литературному творчеству. Свой богатый житейский и духовный опыт Владимир Фомченков переносит на страницы произведений. Основной его жанр – рассказ. Проза его подкупает правдивостью, знанием жизни. Да и как может быть иначе, если писатель живет среди своих героев, встречается с ними ежедневно, видит их в работе, в повседневных домашних хлопотах и на праздниках.
Всю жизнь свое свободное время Владимир Ефимович посвящал литературному творчеству. Свой богатый житейский и духовный опыт Владимир Фомченков переносит на страницы произведений. Основной его жанр – рассказ. Проза его подкупает правдивостью, знанием жизни. Да и как может быть иначе, если писатель живет среди своих героев, встречается с ними ежедневно, видит их в работе, в повседневных домашних хлопотах и на праздниках.Его рассказам присуща ёмкая мысль, яркий образ, сочный язык. Главная тема рассказов Фомченкова – деревня, её обитатели. Главные герои – люди – трудяги, с неповторимыми характерами, любящим отчий край, землю дедов и прадедов.
Произведения Фомченкова были опубликованы в центральной прессе, в журналах: «Крестьянка», «Молодая гвардия», «Октябрь»; в газетах: «Литературная Россия», «Рабочий путь», «Сельская жизнь», «Смена», в ряд коллективных сборников вошли его рассказы.
В 1992 году вышла первая книга В. Фомченкова «Колдовская любовь», изданная за свой счет.
Он – лауреат литературной премии Смоленщины по итогам конкурса достижения молодежи в области литературы, член Союза писателей России.
Его рассказы вошли в коллективные сборники: «Зори», «Ключ-город». Есть переводы на болгарские, польские языки.
Он – лауреат литературной премии Смоленщины по итогам конкурса достижения молодежи в области литературы, член Союза писателей России.
Его рассказы вошли в коллективные сборники: «Зори», «Ключ-город». Есть переводы на болгарские, польские языки.
В 1997 году выходят вторая и третья книги «Горечь сладкой ягоды» и «Неуловимое счастье».
В 2017 г. свет увидела новая книга прозаика – «Аисты вернутся». Это сборник рассказов, которые были изданы и напечатаны в виде трех небольших книжек в 1992 и 1997 гг., а также сборниках и журналах Смоленского края. Прошло много лет после этих первых публикаций, но произведения В. Е. Фомченкова по-прежнему очень современны, потому что они – о людях, живущих на красивой земле с богатой историей, о вечных и прекрасных человеческих чувствах – верности, доброте, умении любить и верить, которые никогда не устареют и не будут подвластны времени.
В 2017 г. свет увидела новая книга прозаика – «Аисты вернутся». Это сборник рассказов, которые были изданы и напечатаны в виде трех небольших книжек в 1992 и 1997 гг., а также сборниках и журналах Смоленского края. Прошло много лет после этих первых публикаций, но произведения В. Е. Фомченкова по-прежнему очень современны, потому что они – о людях, живущих на красивой земле с богатой историей, о вечных и прекрасных человеческих чувствах – верности, доброте, умении любить и верить, которые никогда не устареют и не будут подвластны времени.
29 июня 2020 г. Владимир Ефимович ушел из жизни.
ДЕДОВ ПОЛУМЕСЯЦ
(рассказ)
Не спится Пелагее Михайловне. Ворочается с боку на бок. Не до сна тут. Поднимется на кровати, обопрется на локоть и долго вслушивается в ночную тишину.
Муж уехал на курсы. А Гришеньку словно подменили в последнее время. Как уйдет с вечера в кино, так и жди, что на рассвете только домой заявится. А потом спит, хоть из пушки пали. На работу не добудишься. Работа у него ответственная. Автомеханик. Летось техникум закончил. И в почете. Молод еще, а уже в члены правления колхоза выдвинули.
Хороший сын, послушный, да вот заладил поздно домой приходить. Ясно – девушка появилась, а матери все заботы и хлопоты. Малые дети спать не дают, а от больших сам не заснешь. Ночь велика, всякое передумаешь.
Намедни пропытала у соседней девчонки Варьки, где это Гриша столько времени пропадает.
Фыркнула Варька, как рассерженная кошка, глазами сердито зыркнула и ляпнула, вроде варом окатила:
– За приезжей ухлестывает... У Сеньки Лиходеева на квартире живет.
Господи, лучше бы и не спрашивала. Вот язва девка. Я что ли виновата, что у нее с Гришей не вяжется.
– Постой-ка, у Сеньки Лиходеева на квартире? Господи, да это же в соседней деревне. Неужто дома не видит, вон сколько девок-то славных.
– А об этом, Пелагея Михайловна, сами у него спросите, – стукнула дверью Варька и вихрем под окнами пронеслась.
Расстроилась Пелагея Михайловна, аж сердце защемило. Ах, как оно, сердце, чувствует, если бы сын про это знал. Деревня-то та не ближний свет – пять верст с гаком. А вдруг ухажерка Гриши курит и пьет? А может гулящая?
Взяла таблетку валидола под язык, прилегла на кровать. В сердце боль вроде занемела, отпустила.
Спустя немного времени, глянула в окно, а бабы собрались у колодца, судачат. Что это они до солнца, словно куры на шесте, всполошились?
Пойду-ка попытаю, может чего наслышаны про Сенькину квартирантку?
Пока подошла, а Марья Киндеева уже вцепилась в волосы Тоньки Вороновой и ну таскает ее за вихры, вутозит, как былинку, из стороны в сторону. Ведра с водой повалили. Шум, крик подняли. Так разошлись – хоть водой разливай. Насилу их бабы разняли.
Оказалось, за детей своих повздорили и подрались.
– Привяжи свою Соньку, – зло сипит Марья, вытирая кровь на носу, – чтобы не бегала к моему Степке на сеновал...
– Не укажешь, – звонкоголосо визжит Тонька, размазывая кровь по щеке... – Твой Степка сам виноват. Обманул девку. В суд подам на него.
Бабы встали в кружок и изготовились к долгой и нудной перебранке.
Господи, да что же это за молодежь нынешняя? Неужто совсем стыд потеряли?
О квартирантке Сеньки Лиходеева Пелагея Михайловна даже не обмолвилась, попав в такую бабью кутерьму.
А исподволь, краем уха все же уловила, что эта приезжая – новая докторша. Девушка скромная, добрая и жуть какая красивая.
Ой, беда. Вскружит голову Грише. Посмеется. Ведомо, городская, боевая. А он у нас тихоня, характер, хоть валенки валяй. Хоть бы отец поскорее курсы закончил и домой приехал. Может, приструнил бы Гришу, усовестил. А то где это видано, чтобы до солнца у девушки пропадать.
Пелагея Михайловна поднялась к себе на крыльцо. Солнце огненно-искрящимся диском выглянуло из-за зубчатого, весело проснувшегося леса. На все лады запели птицы.
Пелагея Михайловна сошла по ступенькам вниз, и от ее неслышных шагов словно проснулся задремавший в саду ветер, ласково дохнул в лицо прохладцей. Толкнула дверь на сеновал. Петли в завесах загудели, будто потревоженные в улье пчелы. В щелястые стены пуни велосипедными спицами проникли солнечные лучи и воткнулись в летошнее сено, ворохом сваленное у порога. В полумраке белели подушка и полушубок. Здесь летом спит Гриша, но сейчас его не было.
За стеной в хлеву хвастливо закудахтали куры. И во всю глотку заорал петух. Шумно, словно все понимая, вздохнула корова. В загоне, под навесом, проголодавшиеся за ночь утки подняли такой гвалт, что на время заглушили все звуки просыпающейся деревни.
Пелагея Михайловна стала управляться по хозяйству. Первым делом подоила Рыжуху и выпустила на лужок попастись. Насыпала отрубей уткам. Те сразу угомонились и принялись за еду.
А Гриши все нет. И коров в поле повыгоняли. Вон уже за околицей слышится их мычание, блеяние овец, щелканье кнута и докучливое гавканье охрипшего пса.
Пелагея Михайловна прошла к навесу. Коснулась задрожавшей рукой гладко отполированного старого косовища. Косу Гриша поклепал, намереваясь прокосить дедов полумесяц. Это вошло у них в семейную традицию – в день начала сенокоса прокашивать дедов полумесяц.
– Неужели забыл? – подумала Пелагея Михайловна, и сердце болезненным толчком отозвалось у нее в груди. Чтоб не упасть, она невольно оперлась о широкий ствол березы.
Мало-помалу боль в сердце отпустила. И Пелагея Михайловна, присев на лавочку, задумалась. Как же все это было? Весной, когда заснеженная и скованная лихими морозами озябшая земля уже отошла, и влажный дерн, вспотевший от пригретого солнца, начал покрываться шелковистой, редкой травой, отец принес из леса тонкий, хрупкий прутик. Посадил его у калитки, напротив окна.
– Пусть теперь у нас березка живет.
– А зачем она? – воспротивилась мать. – Только место будет занимать. Какой прок с березы-то? Землю вокруг себя высушит, в грядах все выгорит, пересохнет.
– Не пересохнет, – сказал отец. – Яблони и сливы у нас есть. Березы нет. Вот она и будет весной поить нас соком.
– Когда еще дождешься от нее сока, – недовольно покачала головой мать.
– Дети дождутся. Внуки.
– Ладно, – уступила, наконец, мать. – Раз принес, место не куплено. Пусть уж сидит, этакая краля...
В тот день ярко светило солнце, рыжее, лохматое, будто непричесанная голова ребенка. На березовом, глянцевом небе плыли кучевые облака, будто в ледоход на реке льдины. А на мокрой траве пузырились лужицы от только что прошедшего дождя.
У околицы, прямо с моста, пила воду в реке радуга. А, может, поила своего голубого коня, на котором поскачет вслед за уходящим дождем.
Отец на «бабке», вбитой в дубовую колоду, молотком клепал косу. Конец гладко обструганного елового косовища лежал на прогнувшемся сучке березы.
В деревне был выходной. Завтра начнется сенокос. Не везде луг доступен косилке. Частый купник, уединенные в непролазном лозовом кустарнике поляны, крутые бугры и склоны рвов – здесь можно развернуться только косе. Да и то в умелых руках, когда надо знать, где косу попридержать на руках, а где и нажать на пятку.
– Тут-тук-тук, – стучит отец острием молотка по жалу заждавшейся сенокоса косы. Под точным ударом плющится сталь и оттягивается, как у бритвы лезвие. Пройдет отец молоточком от мыска до пятки, да брусочком по лезвию – дзинь-дзинь, и поправит жало, чтобы не было заусениц.
– Тук-тук, – разносится по деревне.
– Так-так, – вторит ему молоток соседа. Завтра отец и сосед Яков, вскинув косы на плечо, в свете алой зари пойдут первыми будить луг, который, укутавшись сивым туманом, как ватным одеялом, еще крепко и безмятежно спит, никем не потревоженный.
– А-ак, А-ак, – доносятся отголоски с другого конца деревни.
Мужики всерьез готовятся к сенокосу. А солнце уже к полудню подобралось. Жарко! Искупаться бы!
Отклепав косу, отец пробует ее на лужке у калитки. Поблескивая, словно рыбья чешуя, коса ловко выбривает до корешков полумесяц прокоса.
Берет отец жменьку прохладной дятлины, в которой запуталась пчела. Осторожно помогает ей выкарабкаться на волю, а травой вытирает косу от пятки до мыска. И брусочком снова дзынь-дзынь по жалу.
– Папа, а купаться когда пойдем?
– Сейчас прокос дойду и пойдем.
Но в это время из дома выбежала побледневшая мать.
– Война, по радио сообщили. Ой, беда!
И мать заголосила, словно по покойнику.
Косовище дрогнуло в руках отца. Коса остановила свой бег и замерла над поникшей травой. Отец торопливо повесил косу под навесом, а сам засобирался в военкомат. Назавтра утром заскочил уже проститься.
– Береги себя, – наказал он матери и бросился догонять свою колонну.
У околицы, на мосту, где после дождя радуга пила из реки воду, он оглянулся, и махнул на прощание рукой. А возле калитки одиноко, сиротливо и жутко застыл выкошенный отцом бледно-зеленый полумесяц.
Потом они долго ждали от отца писем. Полумесяц уже зарос молодой дятлиной, а писем все не было.
И все-таки оно пришло – первое и последнее письмо отца.
Мать сохранила его. Она открывала сундук и вынимала маленькую жестяную коробку, в которой хранилось письмо.
– Дорогие мои березоньки с веснушками. Как вы там без меня? – писал отец.
Березоньками отец называл мать и дочь за веснушки на лице. Не знал отец, что фашисты вырубили его сад. Дом сожгли. А жена и дочь скрывались в лесу у партизан.
Когда фашистов выгнали из деревни, пришла и похоронка на отца...
А березка чудом уцелела. Подросла. Правда, была ранена осколком мины. Мать глиной замазала ствол, перевязала. И ничего, рана скоро затянулась и перестала сочиться соком. Только шрам остался.
Жили поначалу в землянке. Потом всем миром слепили хатенку. И бесконечно длинными вечерами ждали отца, прислушиваясь к каждому шороху и стуку в дверь. Он не мог не вернуться. Высокий, сильный и уверенный. Такого и пуля должна бы обойти стороной. А может, он, как и береза, ранен осколком?
Каждую весну они пили березовый сок и вспоминали отца. А осколок от мины так и сидит в сердцевине березки.
Умерла мать, надорвавшись от непосильной работы. А отец так и не вернулся. И друг его, Яков, не воротился. Тогда многие не пришли с войны. Вдовья деревня стала.
Пелагея Михайловна вздрогнула и очнулась от нахлынувших воспоминаний. Хлопнула калитка. Вбежал высокий кудрявый парень с гитарой на плече. Застенчиво улыбнулся:
– А вот и я.
– И как же тебе не стыдно, – со слезами в голосе заговорила Пелагея Михайловна. –Уже день на дворе, а ты только являешься. Как на работу пойдешь, не спавши?
– Обыкновенно, – смеется Гриша. – Умоюсь и айда. Он положил на лавочку гитару и обнял мать.
– Вечно ты опекаешь меня, а я ведь не маленький. Она всем сердцем почувствовала, что Гриша сегодня какой-то взволнованный. И не ошиблась.
– Мама, мы решили, – заговорил он запинаясь. – Я хочу сказать, что я, что мы...
– Кто это мы? – спросила она, смутно догадываясь о том, что хотел сказать сын.
– Ты Лену не знаешь...
– Это что у Сеньки Лиходеева на квартире? Докторша?
– Ага, кивнул головой сын, – а откуда узнали?
– Бабы настрекотали. Говорят, пригожая. Да мне-то что? Лишь бы вы любили друг дружку...
– Спасибо, мама, – обрадовался он.
–И как это быстро у вас теперь получается? Отец твой прежде за мной три года ухаживал, а уж потом...
– А я три месяца. Тоже срок.
Мать подходит к сыну и, снизу вверх заглядывая ему в глаза, вдруг спрашивает:
– А что ты сегодня утром должен был сделать? А? Небось из-за любви своей все позабыл...
– Как можно, мама? Я все помню.
Гриша подходит к навесу, берет косу, затем скидывает на траву пиджак и за несколько ловких взмахов выбривает в дятлине до желтизны корешков бледно-зеленый дедов полумесяц.
– А осенью, – говорит он, – принесу из лесу березку и посажу рядом с дедушкиной. Пусть растет. Вдвоем им будет веселее.
Произведения:
Книги:
- Фомченков, В. Аисты вернутся : Избранное : [сборник pассказов] / В. Фомченков. – Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2017. – 162 с. – Текст : непосредственный.
- Фомченков, В. Горечь сладкой ягоды : [pассказы] / В. Фомченков. – Смоленск : Бюро пропаганды худ. лит., 1997. – 48 с. – Текст : непосредственный.
- Фомченков, В. Колдовская любовь : [pассказы] / В. Фомченков. – Смоленск : Отделение лит. Фонда СП России, 1992. – 48 с. – Текст : непосредственный.
- Фомченков, В. Неуловимое счастье : [pассказы] / В. Фомченков. – Смоленск : Бюро пропаганды худ. лит., 1997. – 32 с. – Текст : непосредственный.
Коллективные сборники:
- Фомченков, В. Дедов полумесяц : [pассказ] / В. Фомченков. – Текст : непосредственный // Рудня поэтическая. – Смоленск, 2005. – С. 74-81.
- Фомченков, В. Колдовская любовь : [pассказ] / В. Фомченков. – Текст : непосредственный // ГОДОВЫЕ КОЛЬЦА. – Смоленск, 2004. – С. 316-320.
- Фомченков, В. Лешка : [pассказ] / В. Фомченков. – Текст : непосредственный // Ключ-город : Альманах. 1990. – Смоленск, 1991. – С. 160-165.
- Фомченков, В. Работа ; Злополучный УПЗ ; Встреча ; Аисты ; Лешка : [pассказы] / В. Фомченков. – Текст : непосредственный // Зори. – Смоленск. – 1994. – С. 11-50.
- Фомченков, В. Распиленный дедушка : [pассказ] / В. Фомченков. – Текст : непосредственный // Рудня : Историко-социальный портрет района. – Смоленск, 1991. – С. 70-75.
Периодические издания:
- Фомченков, В. Три богатыря : [pассказ] / В. Фомченков. – Текст : непосредственный // Вдохновение. – 1999. – № 3-4. – С. 10.
- Фомченков, В. Поездка с отцом : [pассказ] / В. Фомченков. – Текст : непосредственный // Вдохновение. – 1997. – № 8. – С.
- Фомченков, В. Неугомонная : [pассказ] / В. Фомченков. – Текст : непосредственный // Руднянский голос. – 1997. – 19 марта.
- Фомченков, В. Дедов полумесяц : [pассказ] / В. Фомченков. – Текст : непосредственный // Заветы Ильича. – 1992. – 30 мая.
- Фомченков, В. Запорожцы пишут : [pассказ] / В. Фомченков. – Текст : непосредственный // Заветы Ильича. – 1992. – 30 янв., 6 февр.
- Фомченков, В. Наследники Микулы Селяниновича : [pассказ] / В. Фомченков. – Текст : непосредственный // Заветы Ильича. – 1991. – 7 февр., 21 февр.
О творчестве В. Фомченкова:
- Владимир Фомченков. – Текст : непосредственный // Книги. Даты. Жизнь. – Смоленск, 2005. – С. 58.
- От издателя : [вступительная статья к книге В. Фомченкова «Аисты вернутся»]. – Текст : непосредственный // Фомченков, В. Аисты вернутся : Избранное : [сборник pассказов] / В. Фомченков. – Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2017. – С. 5-6.
- Годы и книги : [70 лет В.Е.Фомченкову]. – Текст : непосредственный // Руднянский голос. – 2006. – 15 сент. – С. 3.
- Кудрявцев, В. Память сердца : К годовщине со дня кончины Владимира Ефимовича Фомченкова / В. Кудрявцев. – Текст : непосредственный // Руднянский голос. – 2021. – 15 июля. (№28). – С. 12.
- Кудрявцев, В. Цель и путь : О жизни и творчестве В. Е. Фомченкова / В. Кудрявцев. – Текст : непосредственный // Руднянский голос. – 2000. – 25 февр.
- Максимов, Е. Правда о книге : Вышла книжка В. Фомченкова «Колдовская любовь» / Е. Максимов. – Текст : непосредственный // Смоленские новости. – 1992. – 6 авг.
- Пашков, Ю. Зеркало судьбы : В. Фомченков / Ю. Пашков. – Текст : непосредственный // Рабочий путь. – 1992. – 10 июля.
- Презентация книги земляка «Колдовская любовь» В. Фомченкова состоялась в Руднянской библиотеке. – Текст : непосредственный // Заветы Ильича. – 1992. – 26 дек.
- Шпаков, П. Владимир Фомченков : Творческие портреты / П. Шпаков. – Текст : непосредственный // Заветы Ильича. – 1985. – 22 янв.