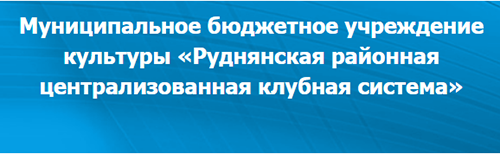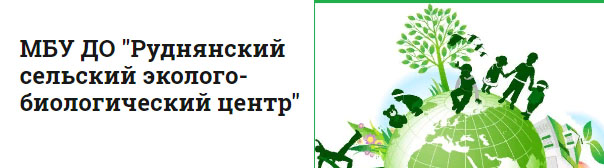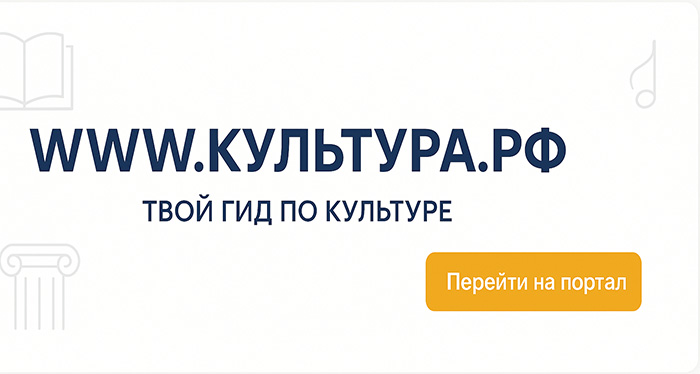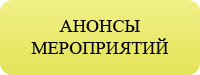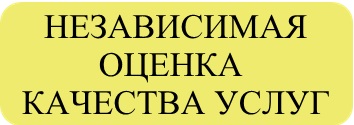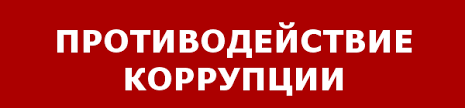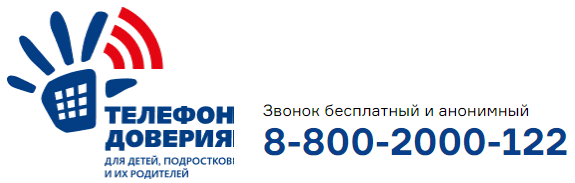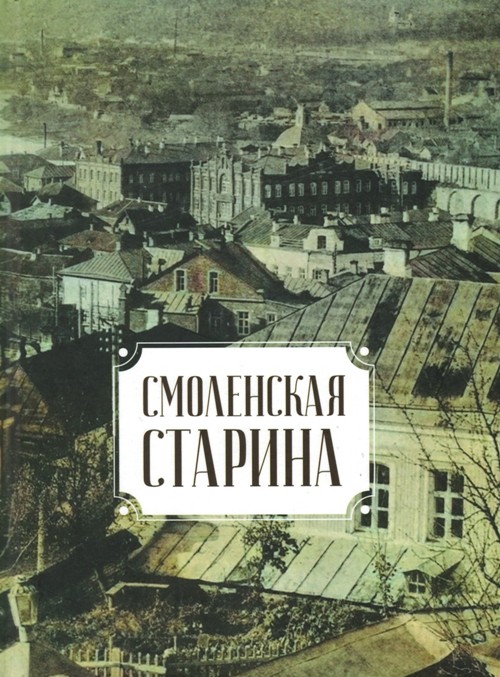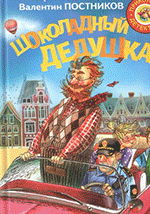Настройки:
Интервал между буквами (Кернинг):
Руднянское муниципальное бюджетное учреждение Централизованная библиотечная система
Версия для слабовидящих
8 (48141) 4-21-09
- Главная
- Изящной лирики перо
- Литературные вести
- Виктор Васильевич Кудрявцев – победитель II Международного литературного конкурса «Гений места»
Литературные вести
Виктор Васильевич Кудрявцев – победитель II Международного литературного конкурса «Гений места»
04.06.2024
 Виктор Васильевич Кудрявцев, поэт, член Союза российских писателей и Союза журналистов России, лауреат литературных премий им. М. В. Исаковского и А. Т. Твардовского, руководитель районного литобъединения «Современник» занял 1-е место в Международном литературном конкурсе «Гений места» в номинации «Лучшее стихотворение».
Виктор Васильевич Кудрявцев, поэт, член Союза российских писателей и Союза журналистов России, лауреат литературных премий им. М. В. Исаковского и А. Т. Твардовского, руководитель районного литобъединения «Современник» занял 1-е место в Международном литературном конкурсе «Гений места» в номинации «Лучшее стихотворение». 4 июня 2024 года в Москве в Общественной палате Российской Федерации были подведены итоги II Международного литературного конкурса «Гений места» и состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров. В этом году конкурс был посвящен 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.
4 июня 2024 года в Москве в Общественной палате Российской Федерации были подведены итоги II Международного литературного конкурса «Гений места» и состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров. В этом году конкурс был посвящен 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В оргкомитет конкурса поступило более 200 заявок из восьми стран СНГ. В состав жюри вошли известные писатели, поэты, литературные критики и журналисты, эксперты ЛитВедЛаб, переводческого факультета и института международных отношений и социально-политических наук МГЛУ.
В оргкомитет конкурса поступило более 200 заявок из восьми стран СНГ. В состав жюри вошли известные писатели, поэты, литературные критики и журналисты, эксперты ЛитВедЛаб, переводческого факультета и института международных отношений и социально-политических наук МГЛУ.
От всей души поздравляем Виктора Васильевича с заслуженной победой! Желаем дальнейших творческих успехов и реализации всех намеченных планов.
***
Сквозь прорехи
в порозовевших кронах деревьев
призывно блеснул
купол Святогорского монастыря.
Брат Виктор,
как назвался
аскетичного вида монах,
встреченный мною
за воротами обители,
показал дорогу
к месту последнего упокоения
раба Божьего Александра.
Поднявшись
по довольно крутым ступенькам
на вершину холма,
я оказался рядом с памятником,
знакомым
ещё по рисунку
из старого школьного учебника.
Поклонившись,
присел на одну из скамеек
у парапета.
Рассветало.
Внизу, за деревьями,
начинался новый,
такой обыденный день:
пели невидимые мне петухи,
мычали коровы,
весело переговаривались бабы,
ведущие их за околицу.
Всё, как и сто пятьдесят,
и двести лет назад.
Если бы не шум
проезжающих изредка автомобилей,
можно было подумать,
что на календаре у нас –
девятнадцатый век,
что время здесь,
рядом с Пушкиным,
остановилось.
Я почти физически ощущал
его незримое присутствие,
думая только о том,
как бы задать
Александру Сергеевичу
столько лет
мучивший меня вопрос.
Первые лучи солнца –
тёплого,
живого,
вечного –
полились на мои руки,
на скамью,
на кованую решётку ограды...
Из-за угла храма
своею стремительной походкой
с развевающимися полами
любимого
тёмно-коричневого
с отливом
сюртука,
с тяжёлой тростью в руке,
выбежал поэт
и, приподняв цилиндр,
попросил позволения
присесть
рядом со мной.
Пару минут помолчал,
придирчиво
изучая надпись
на памятнике,
тряхнул курчавою головой,
улыбнулся.
А потом,
поворотив ко мне
обжигающе-некрасивое,
прекрасное лицо,
тихо произнёс:
– На свете счастья нет,
а есть покой и воля...
Вы ведь, сударь,
об этом
изволили думать?!